Первый премьер-министр независимой Украины Витольд ФОКИН: «У меня немецкий «Вальтер» был, у него — советский «ТТ». Первым стрелял он — пуля в кирпичную стенку попала, и осколком мне едва артерию не пробило. Я стрелять не стал...»


(Продолжение. Начало в № 35, № 36 №37)
«И казалось мне, что это Россия у меня за все прощенья просила»
— Первые прочитанные книги свои вы помните?
— Конечно.
— А к чтению когда пристрастились?
— Мне еще пяти лет не было, то есть пять лет в октябре исполнялось, а летом, где-то в августе, мама в библиотеку меня записала, которая во Дворце пионеров, бывшем особняке Терещенко, находилась. Я книжечку стихов под названием «Сабля Чапаева» взял, но пока до дома дошел, всю ее, до последней страницы, прочитал. Как? Я же читать собрался, а книжка внезапно кончилась...
— Вы назад...
— Точно: разворачиваюсь и назад бегу. «Тетя, — библиотекарше, полной молодой даме, говорю, — я книгу поменять хочу», а она наотрез: «Нет!». Тогда просто правило существовало: поменять книгу можно было не раньше чем через два дня. Почему? Чтобы люди читали. Я и так, и этак — она ни в какую, я в слезы, она не сдается, а рядом худенькая, хрупкая женщина стояла. «Слушай, — говорит, — малыш тебя просит: ну что тебе стоит? Дай ему какую-то книжку», и библиотекарша в сердцах повесть Шолом-Алейхема «Мальчик Мотл» мне сунула. Что интересно, женщина, которая книжку получить мне помогла, Любовь Григорьевна Гельман, спустя годы у меня учительницей немецкого языка стала.
Это и были мои первые книжки, но когда война началась, когда люди, в основном евреи, массово в эвакуацию уезжать стали, бесхозными квартиры, дома оставались...
— ...а в них библиотеки...
— Да, и грабеж был повальный. Мародеры, как я бы их сегодня назвал, хватали, рвали и выносили все, а по книгам, которые в их глазах никакой ценности не представляли, никому не были нужны, топтались. Мы с моим дружочком Шуриком Масло (его родителей репрессировали, они в Дудинке сидели, Шурик у бабушки Татьяны Сидоровны Лариной жил) эти книги мешками тащили и в подсобке, в крольчатнике складывали, а потом запоем читали.

Во время бомбежки или артобстрела мама с сестренкой в погреб уходили, а мы под кровать залезали. Мама подушками нас обкладывала, а мы в немецких машинах курочили стоп-сигналы, батарейки вытаскивали и в нашем убежище иллюминацию устраивали...
— ..и читали...
— Ночи напролет. К книгам я до сих пор трепетно отношусь, но одну из них, когда в седьмом классе учился, позволил себе украсть. Все мы романиста Виктора Гюго знаем — это литературная вершина недосягаемая, но мало кто в курсе, что он был прекрасным поэтом. Я к тому времени все его романы уже прочитал, и вдруг в библиотеке случайно стихи обнаружил. Их-то вот взял и уже не вернул: какую-то книжку взамен дал — тогда, если книгу потерял, — возместить полагалось. Я и сейчас многие из стихов Гюго помню. Был период, когда Наполеона вся Европа боготворила, особенно женщины с ума сходили. Для них это фаворит, герой был, но только у Гюго я такие стихи нашел.
(Читает):
Народы, что порой, как дети,
Несут восторг убийце свой.
Пусть сгинет он во мрак столетий,
Он лишь палач, он не герой.
Он только блеск ночной Авроры,
Холодный и скупой рассвет,
Что порождает метеоры,
Но за которым света нет.
Сейчас я эти строки опять вспоминаю, когда о войне говорят...
— Актуальные, согласитесь, стихи...
— То, что я эту книгу украл, ты оправдываешь (смеется)?
— Абсолютно...
— Так вот, ты знаешь, что мы тесно с Юрой Рыбчинским дружим, он потрясающую, пронзительную балладу «Кавказский пленник» написал...
— Прекрасная вещь — она в «Бульваре Гордона» была опубликована...
— Я с твоего позволения прочитаю. Начинается эта баллада словами:
Шел домой я, шел с войны,
шел с Кавказа я.
Что о ней мне говорить
да рассказывать?
Интересная война для истории:
Со своими на своей территории.
А в конце жена, не признавшая в госте мужа, на которого похоронку давно получила, его, уходящего, догоняет...
И до самого речного причала
Все бежала и «прости» мне кричала.
И казалось мне, что это Россия
У меня за все прощенья просила.
Сильнейшие стихи, и идея какая заложена!

— Витольд Павлович, а почему вы сами писать стихи начали, какой к этому толчок был?
— Я не начинал — я никогда не прекращал их сочинять.
— Первое свое стихотворение вы помните? Можете прочитать?
— Конечно. Мне три года было, поэтому стихотворение я не написал — сочинил и потом на радио в детском саду читал (у меня свидетель есть — Володя Плужник, мы в детский сад вместе ходили). Это перепев известной песни «Шли по степи полки со славой громкой» был, а я свой вариант придумал:
Шли по степи полки со славой громкой,
Но наши танки ринулись вперед.
И наш боец ворвался в гущу белых
И порубил их всех до одного
(смеется).
— Это правда, что однажды вы смелости набрались и свои произведения в журнал «Огонек» отправили?
— Да.
— Сколько вам лет было?
— На первом курсе института учился.

— Так... А что за стихи были?
— Это большая вещь, по размеру ближе к поэме, очень патриотическая. Я американскому другу письмо написал:
Слушай, честный американец,
Правду о тех, кто опять
Хочет увидеть пожаров багрянец,
Хочет мир подорвать.
Мир, что добыли такою ценою
В те незабвенные дни,
Снова хотят заменить войною,
Мир утопить в крови.
Лапти сплели для народа уставшего, —
Кодекс сомнительных прав и свобод,
Кукиш бесстыдного плана Маршалла
Тычут голодной Европе в рот.
И дальше:
Ракетные крейсеры их и линкоры
Стынут на рейдах
нейтральных портов,
Страх наводя, нарываясь на ссоры,
Мощью грозя орудийных стволов...
А потом я обращаюсь к американцу и говорю:
Если даже тебя пощадит
Смерть на полях сражений,
Знай, никого не щадит Уолл-стрит,
Погрязший в крови
(ну естественно! — В. Ф.) —
преступлений.
С утра и до вечера будешь стоять
С дощечкой на впалой груди:
«Дайте работу, я бывший солдат,
Я инвалид войны».
Но пухлый мистер мимо промчит
В роскошном автомобиле,
И ты позавидуешь тем, кто лежит
В заросшей братской могиле.
Стоишь ты напрасно,
солдат-фронтовик,
Гудит голова от голодного звона.
C болью рванув на себе воротник,
Ты бросишься в муть Гудзона.
И твоя бедная старая мать,
Ослабев от нужды и чахотки,
С утра и до вечера будет стирать
За горстку бобов для похлебки.
А если в сраженьи, в жестоком бою
Сразит тебя огненный шквал,
Знай: купит на ночь невесту твою
Тот, кто жизнью твоей торговал.
Короче, много наивного было...
— Ответ из редакции вам пришел?
— Да, от литредактора Заславской. Ни одной строчки она не критиковала, ни слова о поэзии не сказала, но зато в политической незрелости меня обвинила, дескать, как может советский студент предположить, что, если Третья мировая война будет развязана, от Америки что-нибудь останется? Как это так? Вы заранее поражение Советскому Союзу предсказываете!
«Можешь мистикой это считать, но я отчетливо помню, что голос слышал, а иногда Пушкин мне снился»
— Cовсем недавно, в такое непростое для российско-украинских отношений время, вы перед собой очень непростую, на мой взгляд, задачу поставили — пушкинскую поэму «Руслан и Людмила» на украинский язык перевести. Почему «Руслан и Людмила» и почему именно Пушкин?
— Почему Пушкин? Думаю, это вопрос неуместный. Не может человек интеллигентом считаться, если творчество гениального русского поэта не знает, а что касается перевода... Да, сначала я «Руслана и Людмилу» как перевод задумал и даже построчно пролог перевел.
— Интересно, как он по-украински звучит...
— Вроде неплохо.
Край лукомор’я дуб зелений,
Ланцюг на ньому золотий,
Щодень круг дуба Кіт учений
Ступає, наче вартовий.
Праворуч йде — пісні співає,
Ліворуч — казку муркотить.
Там в хащах лісовик блукає
І мавка на гіллі сидить.
У Пушкина — русалка, я легко мог так и оставить, но подумал: ну как русалка с ее хвостом на ветке сидеть может? А мавка — это наше, украинское, понятное...
На переплутаних стежинках
Сліди небачених страхіть.
На лапках курячих хатинка
Без вікон, без дверей стоїть.
Опівночі, як місяць сяє,
Раптово море відступає:
На мокрий берег із глибин
Рушає легенів загін.
І до ранкової зорі
Там тридцять три богатирі
Несуть довічний свій дозор,
І з ними дядько Чорномор.
Iван-царевич мимохiдь
Знеславлює царя чужинцiв.
Там смерть Кощеєву ведмiдь
Чатує в кришталевiй скринцi.
У хижцi, серед диких скель,
Примари з ранку i до ранку...
— Витольд Павлович, потрясающе! — у вас, ворошиловградского шахтера, украинский намного чище и лучше, чем у многих наших записных патриотов...
— Справа в тому, Дiма, що з набуттям Україною полiтичної незалежностi (пiдкреслюю, полiтичної, бо зараз вважати себе господаркою в своєму домi Україна не може, бо на очах суб’єктнiсть втрачає, ми вже не в змозi нiякого рiшення самi прийняти!) авторитет i соцiальне значення української мови зростають. Навiть тi, хто ще донедавна її мало не холопською, неiнтелiгентною, брутальною вважав, мелодiйнiсть, метафоричнiсть i дотепнiсть її казок та прислiв’їв вiдчули. Тобто зараз просто неможливим стає, щоб молода особа, яка на якесь гарне майбутнє розраховує, мови не знала. Але людиною другого гатунку того, хто українською не розмовляє, я теж не вважаю, це неправильно. I до того ж впевнений, що права забувати свiтову класику, до перелiку якої i росiйська належить, знання української мови не дає.
— Ви якось зiзналися — о, бачте, на українську перейшов... Вы как-то признались, что Пушкин вам переводить помогал, — как это понимать?
— Отвечу, но сначала скажу следующее. Я не был уверен, что мне это произведение заканчивать нужно, поэтому пролог в спорткомплекс понес (ты знаешь: мы больше 40 лет по субботам там в теннис играем), своим товарищам почитать дал и на этом собирался закончить. Знакомый тебе Николай Васильевич Джига, в то время губернатор Винницкой области, этим текстом был потрясен. «Витольд Павлович, — сказал, — дайте мне экземпляр: я к себе поеду, нашей интеллигенции прочитаю, пускай учатся». Так и сделал, и все в один голос: «Витольд Павлович, продолжайте писать!».

Я тогда решил: примитивный перевод делать не стану. Надо во внимание принимать, что «Руслана и Людмилу» не автор «Бориса Годунова», «Евгения Онегина», «Капитанской дочки» или — они особенно мне нравятся! — «Маленьких трагедий» написал, а 18-19-летний мальчишка: сексуально озабоченный, пылкий, горячий, самолюбивый, амбициозный, поэтому в произведении, которое поэмой о любви назвали, о любви по существу нет ни слова. Образы Руслана и Людмилы в ней схоластичны, то есть, какие между ними отношения, не видно, просто Руслан свои подвиги совершает, чтобы жену вызволить. Этого мало, кроме того, у Пушкина в «Руслане и Людмиле» очень много античных героев, которые в его время всем известны были, а сейчас большинству читателей их имена ни о чем не говорят. Александр Сергеевич в своей юношеской поэме, допустим, к какой-то Лиде обращается (с которой радости любви познал. — Д. Г.), но современному читателю знать об этом зачем? Поэтому я и решил, что буду не перевод делать, а пересказ.
Недавно интересную рецензию некоего Игоря Фесенко получил: этот незнакомый мне человек скрупулезно мой опус проанализировал и внимание даже на то обратил, что «у Пушкина 246, кажется, обращений во множественном и единственном числе, а у меня 311». Я ему очень благодарен. Очень понравилось, что он мое произведение перепевом назвал, а я-то голову неделями ломал: как его публике представить. Пересказ — точное слово, с учителем ассоциируется, который в класс приходил, какой-то отрывок читал, и мы должны были его изложить.
— Ну да, а перепев — это поэтично...
— Во всех смыслах лучше, тем более и у Пушкина: Песнь первая, Песнь вторая, Песнь третья, а всего их шесть... Мне это очень понравилось, и если возможность второго издания будет (а это не исключено, поскольку известная тебе Ирина Ступка с предложением его профинансировать ко мне обратилась), можно будет исправления внести, но я мечту вынашиваю, чтобы второе издание, если таковое состоится, по цене любому школьнику, любому студенту было доступно, потому что сейчас в «Букву» зайди — книга в продаже есть, но 251 гривну стоит: для большинства наших граждан цена слишком высокая.
— Как же вам Пушкин помог?
— У меня статуэтка поэта достаточно большая есть — автора не помню, но произведение известное: Пушкин задумчиво на скамейке сидит и вроде как ногой качает. Это первый подарок моей супруги, она моя подруга со школьных лет — и, когда мы поженились, этого Пушкина мне подарила.
— Вот что раньше дарили!
— Он стоит у меня на столе всегда, где бы я ни работал, в каких бы условиях ни жил, Александр Сергеевич неизменно рядом, а я, «Русланом и Людмилой» занимаясь, очень придирчиво к эпитетам относился. Когда сразу точное слово не находил, мог за столом часами сидеть, в полудреме варианты перебирая, и можешь мистикой это считать, но я отчетливо помню, что голос слышал, который... Украинского языка Пушкин не знал, поэтому исключено, чтобы это был он... В общем, кто-то класичною українською мовою необхiдний рядок або слово менi пiдказував, яке я шукав, шукав i не мiг знайти.
Иногда Пушкин мне снился, не живой, а в бронзе отлитый. Во сне я слышал, как строки звучат, и особенно сложные места прояснялись, распутать которые не удавалось. Я просыпался — на часах за полночь, к столу вскакивал и, чтобы не забыть, эти четверостишия записать старался, а утром встал, читаю — елки-палки, думаю...
— ...как хорошо!..
— ...вот именно! Мне вчера Гриша Максименко позвонил — это наперсник Анатолия Ивановича Корниенко, секретарем ЦК украинского комсомола был. Глубоко порядочный человек, украинский язык замечательно знает, так вот, он рассказал: «Витольд Павлович, на улице Суворова, 3, недалеко от вас, писатели, литературоведы живут... Один ко мне недавно пришел и спрашивает: «Слушай, Фокин, говорят, какую-то интересную вещь написал, у тебя она есть?». — «Есть, конечно», — отвечаю. «Дай почитать, я через пару дней верну». «Неделя проходит, вторая, я ему звоню: «Слушай, где книга?». — «Ой, пробач, мiй син взяв, читає». Еще неделя проходит. «Ой, ти знаєш, у сина товариш його взяв».
Короче, интеллигенция собралась: доктора наук, филологи, мовознавцi (это со слов Максименко), гуртом хоть какой-нибудь изъян искали и разочаровались, потому что не нашли.
«Мы год с Юрой Богатиковым не разговаривали, и потом он с матерком мне сказал: «Ты, может, легко без меня обходишься, а я без тебя не могу». Дрогнувшим голосом я ответил:
«Юра,
это мне без тебя крышка,
это я без тебя никак»
— На многие ваши стихи музыка положена, они песнями стали — кто из известных наших исполнителей их исполнял?
— Первым Юра Богатиков, незабвенный дружок мой, еще некто Тищенко, ну а особенно я люблю слушать эти песни в исполнении Володи Засухина. Впрочем, слово «песни», когда речь о двух-трех идет, звучит слишком преувеличенно и нескромно.
— Я часто Юрия Иосифовича Богатикова вспоминаю — замечательный человек и певец, уникальная личность: вам его не хватает?
— Знаешь, мы с Юрой дружим... дружили... С 68-го года. Но однажды сильно поссорились... Год не разговаривали, и потом он позвонил и с матерком сказал: «Ты, может, легко без меня обходишься, а я без тебя не могу». Дрогнувшим голосом я ответил: «Юра, это мне без тебя крышка, это я без тебя никак». Конечно, мне его не хватает... (Грустно). Великий был человек, патриот!
— Много лет вы также с Иосифом Кобзоном дружите... Сегодня его фамилию в Украине в доброжелательном контексте произносить не принято, тем не менее я своей давней дружбы с ним не отрицаю и не скрываю, что дружу с ним по-прежнему. В прошлом году мы встречались: я ему свою точку зрения на происходящие в Украине события излагал, он мне — свою... Консенсуса не нашли, я с его позицией категорически не согласен, но, будучи пожилым, 10 лет сражающимся с раком человеком, он на свои заблуждения имеет право. Как бы там ни было, Кобзон, я считаю, выдающийся человек, который в своей жизни много добра людям сделал, а вы что сегодня о нем думаете?
— Я от друзей ни при каких обстоятельствах не отрекаюсь, чем бы это мне ни грозило. Наша дружба с Иосифом сравнительно недавно возникла — в середине 80-х, но знаком я с ним лично с далекого 51-го.
...9 Мая, жертвы войны еще в госпитале лежали, и вот я, студент третьего курса института, в бригаду самодеятельных артистов входил, которая там выступала, и должен был арию Дон Жуана петь:
Гаснут дальней Альпухарры
Золотистые края.
На призывный звон гитары...
— ...Выйди, милая моя!
— Да, ну а поскольку мой номер во втором отделении планировался, я совершенно свободно по палатам гулял, и вдруг слышу: «Гаснут дальней Альпухарры...» — сказочным голосом кто-то поет. Я бросился туда, смотрю — кудрявый, высокий, худой мальчишка — это Кобзон был. Потом я бригадира нашел, сказал: «После этого мальчика петь никогда не буду», и больше, конечно, не выступал.
С Иосифом Рихард Эгит нас познакомил, мой дружок замечательный. Он настоящий космополит в хорошем смысле слова, сын известного участника войны в Испании. Родился во Львове, его отец крупным военным деятелем у Рокоссовского был, но его потом обвинили облыжно и за решетку упекли. Сидел он недолго, однако обиделся, в Канаду уехал и до самой смерти там жил, так вот, Рихард мне когда-то сказал: «Слушай, не только в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда — перефразируя Чехова, это и о стране можно сказать. Почему ты считаешь, что если я где-то живу, не могу быть ее патриотом? (А он в Австрии, во Франции жил, несколько лет в Штатах, на Гавайях провел, то есть гражданин мира. — В. Ф.). По-моему, родина там, где человеку хорошо». Я ему на это ответил: «Рихард, разница между нами в том и заключается, что для тебя родина там, где тебе хорошо, а мне без Украины не может быть хорошо нигде».
Я с Юрием Михайловичем Поляковым знаком, писателем...
— ...главным редактором «Литературной газеты»...
— Очень толковый, симпатичный, прекрасный человек. Я его в гости приглашал, он у меня с женой Наташей несколько дней прожил, и когда я своего «Руслана» написал, в Москву ему и Кобзону направил. Юрий Михайлович так и не ответил. Не знаю, почему: может, книжка не дошла, все возможно, а что касается Иосифа... Однажды звонок раздается. Трубку поднимаю и на чистой українськiй мовi слышу: «Ну, як ви там?». Я с трудом узнал: «Иосиф, ты?». Смеется: «Я». На украинском языке он гораздо лучше, чем некоторые наши деятели, говорит. Наши мову часто искажают, какой-то галицкий акцент ей придавая. Эти вот ударения: бу́ло, зро́блю, дове́ду, листо́пад — ну так же неправильно, это меня коробит.
«Я тут же его ударил... Соображая, что натворил, сам себе сказал: «Семь бед — один ответ», — за ноги его схватил и головой в сугроб»
— Витольд Павлович, по рекам по-прежнему вы сегодня сплавляетесь?
— Последнее мое путешествие в 2001 году осталось, хотя нет, я потом по реке Ка-Хем (местное название Кантегира. — В. Ф.) сплавлялся. Это между Тувой и Хакассией река, которая начало Енисею дает: до порогов — Кантегир, после — уже Енисей. Это, по-моему, в 2005 году было, а в 2001-м мы сказочное путешествие совершили: неделю на Амазонке прожили, поселения индейцев посещали, пиранью и крокодилов ловили, на огромных черепахах катались. В Перу побывали, в город инков Мачу-Пикчу поднимались. Видишь (на картину показывает), это водопад Игуасу на границе Аргентины, Уругвая и Бразилии изображен... За две недели самолетом порядка 30 тысяч километров налетали — это не намного меньше длины экватора, которая 40 тысяч составляет.

— В теннис вы до сих пор играете?
— Да, в прошлую субботу играл и даже выиграл.
— И охотиться продолжаете?
— Нет, это уже для меня табу. Я понял, что охота только в случае крайней необходимости допустима. Вот когда мы сплавляемся, охотимся, конечно, потому что чем-то питаться надо...
Был момент, когда я косулю убил, вернее, не убил — ранил, но когда догнал и ее глаза увидел, во мне все перевернулось: больше ружья на косулю не поднимал никогда. Кабанов убивал...
— С кем-нибудь из политиков вы сегодня общаетесь?
— Практически ни с кем.
— Так вы счастливый, можно сказать, человек! Более 10 лет председателем Национальной федерации карате-до вы были, а вообще, я от многих слышал, что вы заядлый драчун. Кулаки в ход часто пускали?
— Развивать эту тему не хочу, скажу только, что, когда покойный Дмитрий Григорьевич Недашковский, заведующий отделом плановых и финансовых органов ЦК, на собеседование к Щербицкому меня привел, Владимир Васильевич сказал: «Ну что мне с ним беседовать? Я его как облупленного знаю», — и досье перелистывает, перелистывает. Потом вдруг затормозился: «Что это такое? Ты кого, Дмитрий Григорьевич, привел?» — потому что два строгих выговора с занесением в учетную карточку увидел...
Спрашивает: «Ну расскажите, этот вот выговор за что получили?». Я рассказываю: «Лютый февраль, снег, мороз. Шахта, где я главным инженером работал, стоит, потому что обогатительная фабрика не работает, а там 42 только ленточных конвейера: один расштыбуешь — другой замерз, и я сутки по этажам мотаюсь, аварии устраняю. Наконец, шахта заработала, сортировка, как мы ее называли, уголь принимать стала. Убитый, я с башни спускаюсь, в диспетчерскую иду и вижу: диспетчер Зубков Саша ко мне лицом стоит, а перед ним, спиной ко мне, Пономаренко — начальник этой обогатительной фабрики. В пальто, бобровый воротник — такими буржуев изображали, я диалог слышу. Зубков ему: «Что же ты, такой-сякой, нарядился, ходишь тут? Шахта стоит, фабрика стоит», и до меня отчетливо ответ доносится: «Пока такие дурни, как Фокин, есть, я в выходной день, как белый человек, отдыхать могу!».
— Вы его, естественно, развернули и...
— Нет, тратить силы не стал, тут же ударил. От неожиданности он с катушек долой. Я, соображая, что натворил, сам себе сказал: «Семь бед — один ответ», за ноги его схватил и головой в сугроб.

— И вы Щербицкому все это рассказали?
— А что тут скрывать? Он улыбнулся: «На вашем месте я, наверное, тоже так поступил бы». Я Владимира Васильевича очень уважал, для меня он был примером во всем.
— Руководителей такого класса Украине потом не хватало?
— Нескольких таких быть не может, потому что он один.
— Витольд Павлович, по слухам, восьмиклассником вы с товарищем даже на дуэли дрались — с пистолетами боевыми, заряженными...
— Ну, не будем об этом...
— Из-за девочек?
— Не из-за девочек, а из-за девочки. Это еще до знакомства с будущей женой случилось. В восьмом классе учился, девочку из седьмого класса, которая мне нравилась, в кино пригласил, а ее одноклассник мне помешать попытался. Тогда, в 47-м, практически каждый мальчишка оружие имел: у меня немецкий «Вальтер» был, у него — советский «ТТ».
— То есть это классическая дуэль была — вы зарядили пистолет, он зарядил, а кто первым стрелял?
— Он. Пуля в кирпичную стенку попала, и осколком мне едва артерию не пробило. Чуть-чуть не достало, а я стрелять не стал.
— Почему?
— Откуда я знаю?
— А продолжение у этой истории было?
— Да. Три года назад — Крым еще украинским был! — я и Пехота Владимир Юльевич отдыхать с женами в санаторий «Нижняя Ореанда» поехали. Однажды молодая симпатичная женщина ко мне подходит и говорит: «Витольд Павлович, мой папа с вами в школе учился». — «Как его фамилия?» — спрашиваю. «Осипенко Анатолий». Я в ответ: «Толик? Хорошо помню, еще бы!». — «Знаете, он здесь и встретиться с вами хотел бы». Я обрадовался: «Пусть приходит». — «Папа уже плохо ходит, а не могли бы вы к нему в вестибюль спуститься?». — «Без проблем» — и пошел. Это мой бывший соперник был, такой же, как я, седой и, увы, немолодой. Мы с ним юность и Елену Прекрасную, за которую так сражались, повспоминали, но, вопреки установившейся традиции, чарку не пили и встречаться где-то не собирались — поговорили и расстались, а жаль...
«Надо ли было так рисковать? Нет. А может, и да...»
— Сколько раз в жизни вы погибнуть могли?
— Ой, пытался подсчитать — сбился. Десятки, десятки раз! Самый жуткий случай в горах Якутии на берегах Барай-Ы приключился — это малоизвестная, по крайней мере, никем не исследованная река, и на карту методом аэрофотосъемки нанесена. Никто в тех местах не бывал. Мы, когда на вертолете подлетали, на уступах стадо чубуков, снежных баранов, увидели и с нашим командором Игорем Петровичем Первенцевым тропы поискать решили, по которым они на водопой ходят, поохотиться. Когда приземлились, ребята лагерь налаживать стали, а мы, легко одетые, в мелюстиновых штормовках — тепло было! — ружье взяли и по траверсу горы искать бараньи тропы отправились.
Идем, перед нами уступ глубиной метра два. Я говорю: «Игорь, мы туда спрыгнем, а назад не поднимемся». — «Ничего страшного». Мы лесину какую-то приспособили, спустились, дальше идем. Впереди уже метров семь уступ. Я Игоря уговаривать стал: «Давай вернемся, если тут спустимся — не выберемся!». Он: «Там дальше откос будет, мы просто к реке съедем и возвращаться не будем». Я по лесине спустился, а под Игорем, который тяжелее меня, она лопнула и в пропасть улетела. Мы осмотрелись: пятачок метра два-три квадратных, каменный мешок, выхода никакого. Слышим, вода капает, подумал, от жажды не умрем. У каждого в рукаве НЗ зашит: галеты, плитка шоколада, — двое-трое суток продержимся, но ночью там температура до минус шести опускается, а мы в летних курточках, значит мороз нас убьет.
Игорь меня подсадил, я приподнялся — вижу, отутюженная морозами и ветрами каменная плоскость, за ней, метрах в семи, стланик кедровый, а дальше березка, но как эти семь метров преодолеть? Я разуваюсь, курс повыше беру и изо всех сил к этой березке бегу. Меня сносит, но успеваю за стланик ухватиться. Он непрочный, трещит, ноги у меня уже в пропасти... Как в американском боевике, но там это нервы щекочет, а тут ты отчет себе отдаешь: если медлить буду, 100 процентов погибну, потому что кедрач поддается и в любую секунду с корнем вырваться может. Тогда на него тело бросаю и на березку буквально прыгаю — таким образом спасся. Игорю сложнее пришлось, потому что он более грузный, но я ему сказал: «Ты должен круто вверх брать». В общем, оба живы остались...
— И надо было вот так рисковать, скажите?
— Нет. А может, и да (смеется).

— Ваша внучка Маша однажды призналась: «Мы с дедушкой оба упертые, как бараны» — она права?
— Ну что я ее опровергать буду? (Пауза). Нет, упрямым себя не считаю.
— А обидчивым?
— Пожалуй, хотя это слово — «упертый» — я не люблю. Настойчивый, это да!
— Слышал, что, будучи шахтером, мат вы не приемлете — разве такое возможно?
— Ну, не совсем так. Бытовой нецензурщины, персонифицированной я не люблю, крайне не люблю! Никогда (ну почти никогда, исключения бывают) в лицо человеку: «Ты, такой-сякой» — не скажу, но без мата работа шахтера не работа. Видел бы ты девушек, которые в шахте по-черному матерятся! Я же в те времена начинал, когда они еще под землей работали.
— Ужас!
— Ну а, с другой стороны, встретив ее на поверхности, ты скажешь, что это леди — интеллигентная, воспитанная, прекрасная, и не поверишь, что накануне она в каске была.
— С супругой Тамиллой Григорьевной вы сколько лет вместе прожили?
— 63 года будет.
— Невероятно! Вы сами-то верили, что такое возможно?
— С трудом, но верил, ведь себя знаю.
— Витольд Павлович, вам 83 года сейчас — это много?
— Возраста я не ощущаю. Чувствую, что спина, ноги болят, мучаюсь оттого, что много ходить не могу, устаю, а лет своих — нет, не ощущаю.
— То есть в душе вы по-прежнему молодой человек?
— С натяжкой.
«В грехах своих каюсь я искренне, но дело уже не поправишь...»
— Память у вас, я знаю, феноменальная...
— Это преувеличение.
— Тем не менее напоследок прошу вас какое-нибудь свое стихотворение почитать или куплет песни исполнить...
— Нет, Дима, ни петь, ни стихи декламировать, с твоего позволения, я не буду, а расскажу лучше следующее.

У меня двоюродный брат был: очень талантливый, в свое время — один из самых молодых докторов физико-математических наук в Союзе, друг и сподвижник Андрея Дмитриевича Сахарова, вместе с которым первую в мире атомную электростанцию в Обнинске построил. Валентин Федорович Турчин — мой Валька — невероятным, всесторонне одаренным человеком был, одним из основателей Хельсинкской группы и в то же время автором раритетных ныне книжек «Физики шутят» и «Физики продолжают шутить». Когда Сахарова в Горький сослали, Валентин оказался в числе тех, кто протест в Политбюро подписал, после чего из всех академических учреждений его изгнали, а ведь Валентин, кроме всего прочего, одним из авторов языков машинного программирования был, огромный вклад в развитие информатики внес. Тем не менее шесть лет истопником в Юго-Западном районе Москвы проработал, и все это время вопрос решался о том, чтобы в Штаты его отпустили.
Валя отлично понимал, что меня скомпрометировать может, и очень осторожно по телефону со мной говорил. Однажды ко мне человек пришел, письмо от него принес. «Меня отпускают, — написал Валя, — я в США навсегда уезжаю. Если сможешь вырваться, приезжай проститься».
В грехах своих каюсь я искренне, но дело уже не поправишь... В общем, вместо того чтобы в Москву поехать, я ему ответ написал:
Надменностью
не оскорбляй природу,
Путь кондотьера
не ведет к добру.
Обиды от вождей
не ставь в вину народу,
Сосна должна шуметь
в своем бору.
Можно только представить себе, как я его обидел, как оскорбил. Долгие годы никакой связи у нас не было, а в 93-м году, уже пост премьера оставив, я своего мальчишку, внука взял... Внучок у меня хороший, умный, талантливый (ну, внучок — ему уже 38 лет), и мы в Штаты с ним полетели. Встреча сначала очень холодной была, Валентин весьма неохотно со мной разговаривал... Таня, его жена (она художник), как-то на нас повлиять пыталась: ну Валя, ну Витольд...
Он кафедрой университета заведовал, и исключительный случай — его на этой должности оставили...
— После достижения пенсионного возраста?
— Пожизненно. У него хороший особняк был, садик небольшой, и он стал на мангале мясо готовить, а я булку черного хлеба с собой привез, сало, бутылку водки с перцем и к нему пошел. По стакану выпили, обнялись, заплакали и потом уже до самой смерти связь не теряли. Он в мае прошлого года умер, в коме четыре месяца пребывал, потом аппарат отключили...
— Витольд Павлович, спасибо! Мучил я вас долго, но все настолько здорово было, что, мне кажется, вы должны мне это простить...
— Я очень тебе благодарен, кроме всех своих талантов, ты еще одним редким качеством обладаешь, умением человека разговорить. Никогда так свободно себя я не чувствовал, как сейчас, с тобой беседуя, поэтому ты от меня «спасибо» прими, работой, которую мы выполнили, я очень доволен. Мы еще много тем не затронули, но напоследок я тебе скажу... Хотя ладно, не буду....
— Нет-нет, говорите...
— Меня выступление госпожи Яресько возмутило, когда со своей должности она уходила. Я ее не знаю, ни хорошего, ни плохого о ней сказать не мог, но тут она говорит на прощание: мое завещание, дескать, новому правительству: реформы продолжать, не отступать ни на шаг. И далее: конечно, будет тяжело, очень тяжело, но нужно потерпеть. Я тогда про себя подумал: «Мадам, а ведь на то, что вам терпеть придется, вы не рассчитываете? Вы знаете, что ни вам, ни детям вашим, ни внукам эти тяготы переносить не придется. Нести этот крест будут простые люди, «оловянные солдатики», которых вы с вашим шефом охмурили и обездолили».
Как можно так говорить? Наоборот, если бы я мог к новому премьер-министру Гройсману обратиться (с ним никогда не встречался, но, конечно, на положительные перемены надеюсь), сказал бы ему: «Уважаемый коллега, стратегии не меняй — альтернативы европейскому курсу нет, но не забывай, что, если в стеклянном доме живешь, камни в соседа швырять не стоит. Постарайся, не меняя курса, из той глубокой колеи вырваться, в которую наш экипаж попал, а если двигаться в этой канаве продолжишь, ничего хорошего от тебя ждать не придется, и тебе тоже рассчитывать на что-то хорошее в своей судьбе не следует».

P. S. Это свое стихотворение «Триптих» Витольд Павлович передал мне уже после нашей беседы, как бы в качестве эпилога. Стихи проникнуты тревогой за судьбу распадающегося на части мира и поражают глубиной понимания причин апокалиптического состояния общества. После прочтения я задал автору только один вопрос: «Витольд Павлович, вы действительно считаете, что открытие Америки пагубно отразилось на судьбе человечества?». — «Конечно. Ведь в доколумбовых Америках существовали древние высокоорганизованные цивилизации майя, ацтеков, инков, которые были впоследствии уничтожены головорезами Кортеса и Писарро, конкистадорами, исключительно из-за золота и рабов».
ТРИПТИХ
I
Биологический плод океанов,
Пленница времени,
жертва пространства,
Кружит Земля в состоянии транса,
Бьется в узилище меридианов.
Малая кроха в пыли мирозданий
Держится только за счет колебаний.
Строго рассчитана их амплитуда —
Суть и идея вселенского чуда.
Сжался в мелькании тысячелетий
Мир согласованных противоречий:
Точный баланс, нулевая прогрессия
Стали условием равновесия.
ДЕНЬ —
это свет, доброта и гармония,
НОЧЬ —
беспросветная бездна безмолвия.
II
В трех шагах от неверия
Пирамид геометрия,
Бьет веков артиллерия
В бастионы бессмертия,
Исчезают династии,
Рушатся троны,
Под пятой самовластия
Умирают законы.
Страхом беременен,
Болью терзаний
Маятник времени
И расстояний.
ДЕНЬ —
торжествуя, ликуют столицы,
НОЧЬ —
полыхают костры инквизиции.
ДЕНЬ —
и шедевр гениальной палитры,
НОЧЬ —
и в клоаках рождаются гитлеры.
ДЕНЬ —
Пересвет побеждает соперника,
НОЧЬ —
и Колумбом открыта Америка.
ДЕНЬ —
и раскрыты шумерские знаки,
НОЧЬ —
неизбывная скорбь Нагасаки.
Катится, катится солнечный бубен,
Пляшет шаман —
мир безумен, безумен.
Строго на запад ползет биомасса...
Желтой становится белая раса.
Нищих людей за колючими зонами
Не накормить золотыми батонами,
Голод не знает границ и запретов...
Что происходит с разумной планетой?
И почему все приходит в упадок?
Что изменило извечный порядок?
Алчность без меры,
продажные власти —
Терпенье народа —
причина несчастья.
Чавкает сутками, не умолкая,
«Чудище обло, стозевно и лаяй»*.
Манит наивных
замшелыми мифами,
Кожу с покорных сдирает тарифами.
Давит акцизами и налогами.
Делает всех дураками убогими.
Честные — лохи, в почете бандиты...
Может, планета сорвалась с орбиты?
Апокалипсис мне не приснился:
Маятник, вздрогнув, остановился.
Зло торжествует, добро исчезает...
Где же герой, что его раскачает?
* Из А. Радищева
III
Мне день не в день.
Заснув без сновидений,
В холодном просыпаюся поту.
Со всех сторон вокруг толпятся тени,
А ближе к полночи совсем невмоготу.
Отчаянье безжалостно накатит.
И я кричу в горячечном бреду:
Доколе, господа?!
Заколебали! Хватит!
«Остановите Землю. Я сойду»*.
16.07.2016.
* Из песни

 Первый премьер-министр независимой Украины Витольд ФОКИН: «У меня немецкий «Вальтер» был, у него — советский «ТТ». Первым стрелял он — пуля в кирпичную стенку попала, и осколком мне едва артерию не пробило. Я стрелять не стал...»
Первый премьер-министр независимой Украины Витольд ФОКИН: «У меня немецкий «Вальтер» был, у него — советский «ТТ». Первым стрелял он — пуля в кирпичную стенку попала, и осколком мне едва артерию не пробило. Я стрелять не стал...» Глава Фонда Александра Литвиненко публицист Александр ГОЛЬДФАРБ: «Политики и военные США прямо говорят: «Мы бы дали Украине оружие, но где гарантии, что его не продадут налево?»
Глава Фонда Александра Литвиненко публицист Александр ГОЛЬДФАРБ: «Политики и военные США прямо говорят: «Мы бы дали Украине оружие, но где гарантии, что его не продадут налево?» Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «От смерти меня, дочь советского офицера, настоятельница женского монастыря в Ивано-Франковске спасла»
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «От смерти меня, дочь советского офицера, настоятельница женского монастыря в Ивано-Франковске спасла» Экс-разведчик КГБ сокурсник Путина Юрий ШВЕЦ: «Если выяснится, что Кремль отравил Хиллари Клинтон, это, по сути, война между США и Россией»
Экс-разведчик КГБ сокурсник Путина Юрий ШВЕЦ: «Если выяснится, что Кремль отравил Хиллари Клинтон, это, по сути, война между США и Россией»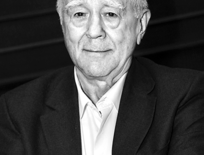 Все могут прожить и без нас, но мы не сможем
Все могут прожить и без нас, но мы не сможем Исполняющая обязанности замглавы Нацбанка Украины Екатерина РОЖКОВА: «Сегодня 102 банка работают, выведено с рынка 80, но наказания пока никто не понес. В Украине нет специализированной структуры, которая бы расследовала банковские преступления».
Исполняющая обязанности замглавы Нацбанка Украины Екатерина РОЖКОВА: «Сегодня 102 банка работают, выведено с рынка 80, но наказания пока никто не понес. В Украине нет специализированной структуры, которая бы расследовала банковские преступления». От зрады до перемоги: как не позволить политике в Facebook испортить вам сон и аппетит?
От зрады до перемоги: как не позволить политике в Facebook испортить вам сон и аппетит? Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги